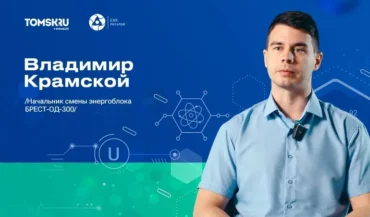«Мы» и «они», «свои» и «чужие». Самым простым, непосредственным образом это выражается в национальной идентификации. Русская национальная идея не только не девальвирует, а напротив, развивается в настоящий момент.
Как известно, существует два основных типа национализма – гражданский (политический) и этнический. Очевидно, что во время экономического кризиса гражданский национализм утрачивает свою популярность: все недовольны мерами, которые принимает государство. Они недостаточны, неэффективны, направлены не туда, куда нужно и т.д. Поэтому ненадежно чувствовать свою общность на основе приверженности общим политическим ценностям и общей гражданской культуре. Совсем иное дело национализм этнический, причем не культурный его подвид, а, вероятнее, примордиальный. Он предполагает, что национальная идентификация определяется объективными генетическими факторами, имеет древние этнические корни и потому носит естественный характер. Этим всегда активно пользовалось государство, отвлекая внимание большинства своих граждан от насущных, вполне материальных проблем и переводя его в сферу идеологии. А также искусственно, с помощью СМИ, создавая небольшие конфликты, чтобы прикрыть тем самым свою неэффективную политику во время кризиса.
Ярким примером того, что материальное положение и национальная идея находятся в обратно пропорциональной зависимости, могут служить последствия распада Советского Союза. В 1991 году произошел развал экономики страны как единого народно-хозяйственного комплекса. Отказ от государственного контроля над ценами в условиях монополизированной советской экономики позволил предприятиям-монополистам более чем в 30 раз поднять цены на свою продукцию. К середине 1990-х гг. тяжелая промышленность России оказалась фактически разрушенной. У государства не было средств на проведение конверсии и оплату госзаказов. Сокращение производства вызвало рост безработицы, которая к концу 1993 г. охватила 13% от всего трудоспособного населения, а по отдельным районам дошла до 40%. Либерализация цен усилила социальную дифференциацию населения. К концу 1993 г. слой обеспеченных граждан составлял в России 3-5%, около 80% жили ниже среднего уровня, при этом 40% населения жили за чертой бедности. Приватизация, которую в народе назвали «прихватизацией», передала в руки частных предпринимателей 110 тыс. промышленных предприятий. Но изменение форм собственности не повысило эффективности производства, как предполагалось. 1994 г. стал годом наибольшего спада производства. Был разрушен научно-промышленный потенциал страны и энергетическая инфраструктура. Ухудшилось материальное положение граждан, возросла социальная напряженность: многие межнациональные конфликты, разгоревшиеся на закате СССР, после его распада перешли в фазу вооружённых столкновений. Таковыми были, например, вооруженное противостояние в Приднестровье в 1992 году, война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахской области, конфликт между Грузией и Южной Осетией, межклановая гражданская война в Таджикистане, столкновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе, приход сепаратистов к власти в Чечне. Ряд конфликтов так и не привели к полномасштабному военному противостоянию, однако продолжают осложнять обстановку на территории бывшего СССР до сих пор. Это, например, сложные взаимоотношения между крымскими татарами и местным славянским населением на Украине, бесправное положение русского населения в Эстонии и Латвии, крымский вопрос.
Наиболее радикальные русские националисты полагают, что «экономика должна быть экономной, а национальная экономика должна быть национальной». По их мнению, у бизнеса нет национальных устремлений, есть только денежные. Поэтому интересы бизнеса, стремящегося к наибольшей выгоде при наименьших издержках, противоречат интересам народа, нации. В такой ситуации России нужен «взвешенный нормальный изоляционизм». Примеры того, что при таком положении дел страна справляется, — Российское государство при Александре III и, конечно же, СССР. Глобальный рынок принесет РФ только зло: инвестиции все равно не пойдут, российские товары не выдержат конкуренции (климат обуславливает более высокие издержки на производство по сравнению с европейскими аналогами), предприятия не будут окупаемы, их ждет банкротство или поглощение и т.п. Естественно, на современном этапе экономическая изоляции России – утопия, но правительство снимает с этих идей толстый слой гипербол и, все же, тормозит вступление РФ в ВТО с помощью идеи Таможенного союза, а также проводит политику протекционизма. К примеру, высокие таможенные пошлины и субсидирование собственного автопрома (23 мая Министерство промышленности и торговли РФ направило на субсидирование автопрома, авиа- и судостроения 30 миллиардов рублей).
Разумеется, с одной стороны, национализм, по выражению марксистов, «ловушка для пролетариата», т.е. удобный способ перевести внимание масс от проблем в «базисе» к проблемам в «надстройке». Но, с другой стороны, его можно использовать, чтобы стимулировать бизнес через патриотизм и традиционные ценности. Некоторые исследователи полагают, что именно либеральная модель экономики привела к кризису. Даже премьер-министр Великобритании Гордон Браун, выступая накануне саммита «двадцатки», заговорил о традиционных ценностях как о «спасательном круге», с помощью которого сможет выплыть, по его словам, лишенная морали глобальная рыночная экономика. И есть примеры в мире (например, индийские бизнесмены, расходующие заработанные деньги на развитие всей общины, а не только на себя) и в русской истории (купцы, которые сто лет назад умели построить свой бизнес как часть общественных отношений), подтверждающие, что бизнес может быть национальным. И производить товары лучше и дешевле импортных.