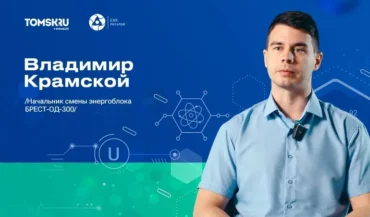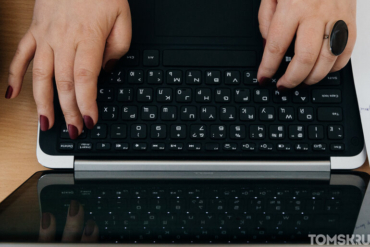Сплошь и рядом слышу я стоны на тему «Ах, нынешняя молодежь, нынешние дети ничего не читают!Вот ра-а-аньше!»
Ну, насчет раньше – спорить не буду: раньше, как известно, и сахар был слаще, и вода мокрее, и женщины моложе. Я о другом.
Делаем эксперимент. Берем нормального маленького ребенка и начинаем рассказывать ему какую-нибудь интересную историю. Очень скоро глазенки у него заблестят, ротишко приоткроется, и при малейшей паузе, сделаной вами, он жадно начинает просить: «А дальше? Ну, что да-альше?».
А что такое книга? Интересная история, занесенная на бумагу. И нормальный ребенок, едва выучив буквы, захочет жадно и много читать – только успевай подсовывать ему эти самые интересные истории!
Казалось бы, чего проще?
Подсовывай эти самые интересные книжки одну за другой – и очень скоро малыш превратится в жадного «книгочтейку», ибо чтение станет для него приятнейшим занятием!
Но нет – мы пойдем другим путем. Мы ведь любим все усложнять.
Способов превратить приятнейшее занятие в сущее мучение существует много-много, и наши родители, а также педагоги не упустят случая использовать хотя бы один из них ( а то и все вместе). Перечисляю:
Перво-наперво сядьте рядом с малышом и заставьте его читать вслух. За каждую ошибку (а он их непременно будет делать, он ведь маленький) тут же давайте ему подзатыльник или гневно вопрошайте: «Ты что, совсем тупой?!». Очень скоро ребенок и впрямь отупеет от страха, из-за чего начнет делать ошибок вдвое больше. Сам процесс чтения будет у него, отныне и навеки, ассоциироваться с унижением и страхом. Ненависть к книге обеспечена, причем на всю жизнь.
Примечание: ни в коем случае не хвалите ребенка, если он все прочел правильно и без ошибок! Никаких «пряников» — только метод «кнута».
Но этого нам мало! Сам подбор книг для чтения тоже весьма важен. Ни в коем случае не давайте ему читать что-то веселое и смешное, жизнерадостное и жизнеутверждающее! Уберите подальше Жюля Верна с его захватывающими приключениями, Джеральда Даррела с его рассказами о животных и природе, уберите «Кибериаду» и «Звездные путешествия Ийона Тихого» Станислава Лема, уберите подальше книги Конан-Дойля – уберите подальше все, что может захватить интерес и воображение, а также порадовать тем, что все кончилось хорошо и добро восторжествовало.
Вместо этого давайте подсунем ему что-нибудь слезливое, жалостное, вгоняющее в депрессию, и непременно с плохим концом. Надо сказать, тут вам очень поможет начальная школа. Не знаю, чем руководствуются составители учебников для чтения в начальной школе, но, прочитав учебники, которые в начальной школе давали читать моему сынишке, я пришла в ужас. Все рассказы, из которых был составлены учебники для второго-четвертого классов, были написаны хотя и разными авторами, но по одной схеме: «Жил-был бедный-несчастный-голодный-больной мальчик (девочка, собачка, дяденька или тетенька — нужное подчеркнуть). Все-то его били-обижали-мучили, и не было в его жизни никакого просвета. Кончилось тем, что его забили (запороли насмерть, бросили умирать от голода, уморили чахоткой). И – рыдайте, детушки! – шелестят ныне березки над его могилушкой, и воет собачка, и вообще жизнь – юдоль скорби.
Немудрено, что начитавшись таких историй про «Красную Пашечку», ребенок начнет книги сторониться – его здоровая детская сущность протестует, ему хочется радости, смеха, веселья, веры в людей и в «прекрасное далёко»– а ему раз за разом суют этот нудный депрессняк. Интересно, зачем?
Я как-то задала вопрос одной учительнице начальных классов – зачем из всех учебников она выбрала для чтения именно этот, нафаршированный подобными историями? Не могла ли она найти что-то более жизнерадостное – ведь наверняка такие учебники, веселые и добрые, существуют? Ответ ее меня слегка ошеломил.
— Да, дети, читая подобные книги, страдают – но надо, чтобы они учились сопереживать!
Честно говоря, я в тот момент слегка потеряла дар речи и не нашла, что ответить. Надо было, вероятно, спросить: «Мадам, а вы можете предоставить нам гарантии, что ваш метод действует, и ребенок действительно учится сопереживать? Где гарантии, что это так? А может, на самом деле вы просто прививаете таким способом ребенку стойкое отвращение к книге, а заодно вгоняете его в депрессию, что не слишком благотворно для детской психики и даже для физического здоровья? Вам наплевать, что вы наносите ребенку тяжелую психологическую травму?
Это – первое.
И второе – уж давайте что-то одно. Либо – либо. Либо вы хотите научить ребенка любить книгу, но тогда потрудитесь сделать процесс чтения занятием веселым и приятным. Либо давайте будем его учить «сопереживать» таким сомнительным способом.
Кстати, подбор книг для чтения в старших классах меня тоже …. не вдохновляет. Можете закидать меня тапками, но позвольте сначала объясниться.
Скажите, много ли произведений из тех, что «проходят» в старших классах, можно назвать жизнеутверждающими?
Возьмем… ну, хотя бы остроумнейшего, искрометного драматурга Островского. Почему из всех его произведений выбраны две самые слезливые пьесы – «Гроза» и «Бесприданница»? В первой героиня кончает жизнь самоубийством, а бедный школьник должен понять, почему за такое поведение – сперва, она изменяла мужу, а потом наложила на себя руки – ее назвали «Лучом света в темном царстве»? Это что, ломает он свои детские мозги – это хорошо, когда женщина мужу изменяет? Или это здорово, когда она, поняв, что влипла, трусливо ищет выход в самоубийстве?
Вот честно – я не думаю, что сам Островский считал свою героиню «лучом света». Просто в то время было модно, если хотите, «милость к падшим призывать». Типа, вот, она падшая, но ведь страдает же, бедняжка, не будьте слишком суровы, ее тоже как-то понять можно… Да вот беда: назвал ее Добролюбов «лучом» — ну и пошло-поехало.
А теперь подумайте: ведь каждый ребенок, читая книгу, как бы «пропускает» героя или героиню через себя, ставит себя на его место. И вот ему внушают, что женщина, которая решение своих проблем трусливо ищет в самоубийстве – это луч света и пример для подражания. То есть, если в его жизни случится проблема – можно попробовать решить ее именно так…
Кстати. Сергей Образцов – Народный артист СССР, создатель Театра Кукол и просто умнейший человек, написал как-то статью под названием «Осторожно – искусство. Осторожно – дети». Не могу не процитировать: «Всякий, кто воздействует на людей средствами искусства, будет ли он писателем, режиссером, художником или композитором, должен понимать ответственность перед теми, кому он адресует свое произведение. Принято говорить: «Искусство облагораживает». Это неправда. Вернее, только часть правды, потому что искусство может и развращать и воспитывать ненависть, садизм, шовинизм, расизм, человеконенавистничество. Все может делать искусство, и чем талантливее произведение искусства или чем глубже традиционные его формы, тем больше и сила его воздействия, добрая или злая, положительная или отрицательная.»
И вот – мы даем читать детям пьесу «Гроза» (рассчитанную на взрослых, понимающих людей), а потом объясняем, что самоубийца – «луч света» и, вообще, чуть ли не пример для подражания… При этом мы не вспоминаем тютчевские строки «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», не думаем что какой-то ребенок может нас «не так понять».
Я умоляю – не надо понимать меня буквально – типа, прочитала девочка «Грозу» и тут же побежала топиться. Нет, дело в другом – у нее в сознании отложилось, что самоубийство – вполне приемлемый выход из положения, причем не позорный, а напротив, весьма почетный – Катерина утопилась, и все ее жалеют, восхваляют и лучом света называют… Информация отложилась в мозгу, как мина замедленного действия. Кто знает – когда-нибудь, в будущем, рванет или не рванет?
Честное слово – почти любое из тех произведений школьной программы, которые мы впихиваем детям, на детей не рассчитано абсолютно. Будь ребенок сто раз умен – у него нет, во-первых, жизненного опыта, чтобы понять, что хотел сказать писатель, во-вторых – нет понимания той исторической обстановки, в которой написана книга. Что ему до нигилиста Базарова, которого в учебнике литературы преподносят как положительного героя, хотя это вызывающий отвращение пропагандист социальной безответственности? Что ему до Печорина с его «разочарованностью» светской жизнью – сам школьник этой жизни светской не видел, и с его точки зрения герой просто дурью мается? Что ему до Раскольникова, одержимого престранной идеей , выяснить «Тварь ли я дрожащая или нет?» нелепейшим способом — с помощью убийства беззащитной старушки? И заметьте – все произведения писателей 19 века, обязательные к изучению, пронизаны печалью, скорбью, все имеют плохой конец, и, как сказал Н.В.Гоголь ( в произведении, которое, насколько я помню, тоже включено в школьную программу) – «Скучно на этом свете, господа!»
Что мы имеем в итоге? А то, что здоровый организм подростка противится всеми средствами лошадиной дозе депрессии, которой мы хотим его начинить. А заодно перестает читать не только книги русских писателей 19 столетия, но и на любую книгу смотрит с подозрением: что там, под обложкой? Очередная порция упадочного настроения, скорби и тоски? Спасибо, кушайте сами. (А я лучше в компьютерную стрелялку поиграю!)
Что порождает, соответственно, стоны: «Ах, компьютер заменил детям книгу!». Уверяю вас – не будь компьютера, он нашел бы другое занятие, а компьютер тут ни в чем не виноват, и вообще, не надо путать причину и следствие.
Если кто хочет спросить меня, какой выход я вижу — отвечу честно: не знаю. Но вспоминаю сценку из книги Д.Даррела. Он описывает, как купил дикую кошку у какого-то местного жителя, который кормил ее чем-то… несъедобным с точки зрения самой кошки. Даррел поместил изголодавшееся, истощенное животное в хороший вольер и дал ему миску свежайшего мясного фарша с сырыми яйцами. Но кошка даже не повернула головы в сторону миски. Почему? А просто она не верила что там, в миске, нормальная, съедобная пища. (Поверила лишь тогда, когда ее натыкали в мясо носом.)
Вот так и мы. Кормим, кормим, десятилетиями кормим детей «духовной пищей», которая, может, хороша и прекрасна с нашей, взрослой точки зрения, но совершенно несъедобна для детей, и вызывает у них этакое «несварение» в мозгу.
Вера Прокопчук
Фото: http://www.newacropolis.ru