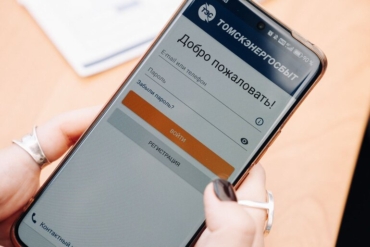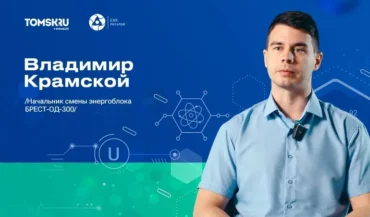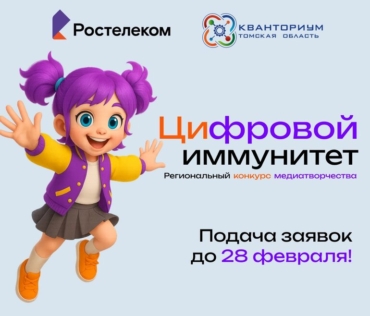Переход предвыборного года через экватор заставляет сотрудников НИУ «Высшая школа экономики» подвести его промежуточные экономические итоги.
В целом они пока неутешительны, даже несмотря на тот факт, что появившиеся в пятницу данные Росстата о динамике ВВП по использованию в первом квартале 2011 года рапортуют о росте ВВП на 4,1% год к году, в том числе о росте внутреннего спроса на 3,3%.
Проблема, как неоднократно отмечали специалисты, заключается в том, что внутренний спрос с лихвой удовлетворяется импортом, а та часть рынка, которая остается отечественным производителям, неуклонно сокращается уже третий год (с начала 2009 года) темпами 2 процента в год. При этом эксперты полагают, что Росстат в дальнейшем может уточнить динамику импорта в сторону повышения, что еще более негативно повлияет на экономический рост, так как получить прирост импорта товаров и услуг в сопоставимых ценах на уровне 23,1% год к году при росте импорта товаров более 41% (что следует из отчетности Банка России) весьма сложно. Учитывая тот факт, что экспорт перестал расти (0% год к году в первом квартале), вклад динамики запасов в ВВП составил в первом квартале 2011 года 5,4 п.п., т. е. превысил сам прирост экономики.
Сейчас показатель доли запасов к ВВП, рассчитываемый Центром развития, остается на уровне 26%, что соответствует периоду 2004-2005 гг., т. е. до потребительского бума. При этом сохранение нормы запасов на текущем уровне должно приводить к исчерпанию влияния эффекта запасов на протяжении года. И если сейчас в первом квартале рост составил 4,1% (из них запасы 5,4 п.п.), то каким он окажется ближе к концу года? Очевидно, он может замедлиться.
Если все сказанное Росстатом о вкладе запасов в рост экономики – правда, то современная модель российской экономики представляет собой, как говорил Ослик Иа-Иа, «удручающее зрелище». Речь идет о стремительном падении конкурентоспособности российской экономики не то что на мировом, а на внутреннем рынке. Об этом говорит стагнация экспорта и кратно опережающий внутреннее производство рост импорта. Понимая, что такой вывод выглядит слишком «черным», эксперты решили посмотреть, что говорят на этот счет цифры и факты, в частности, стандартные индикаторы конкурентоспособности, основанные на сопоставлении изменения показателей удельных затрат и валютных цен в разных странах.
Удельные трудовые издержки в валютном выражении (ULC) в российской обрабатывающей промышленности в апреле – последней доступной для этого показателя точке наблюдения – по оценкам, выросли на 9,4% к уровню прошлого года. Темпы прироста этого показателя с начала прошлого года находятся в положительном коридоре от 0 до 10%, что хотя и ниже 20%-ного прироста до кризиса, но значительно выше, чем, например, в Европе, – судя по статсводкам Евростата, оперативно ведущего эту статистику. Хотя следует отметить, что в ходе кризиса в 2009 году на фоне сброса численности занятых (примерно на 10%) и девальвации рубля российская обработка успешно снизила удельные трудовые издержки (см. рисунок справа). Но закрепиться на посткризисном уровне не удалось. Да и как это можно сделать, если даже при стабильности сегодняшней стоимости номинальной бивалютной корзины по сравнению с январем 2010 г., зарплата по номиналу растет на 12–14% в годовом выражении, а темпы роста производительности труда резко замедлились? (Последнее связано с тем, что уже несколько месяцев занятость не снижается, а растет примерно на 0,5 п.п. по отношению к тем же месяцам прошлого года, а темпы роста производства стабилизировались с тенденцией к замедлению.) Нельзя не остановиться в очередной раз на отрицательной роли укрепления реального курса рубля, которое явно не способствует росту конкурентоспособности российской экономики. Природа этого процесса понятна – быстро растущие экспортные цены на сырье и неспособность денежных властей снизить текущие темпы инфляции хотя бы до уровня стран–основных торговых партнеров. В результате реальный эффективный курс рубля, по расчетам Банка России, укрепляется темпами, близкими к росту удельных трудовых издержек, что зажимает российскую обработку в своего рода «тиски», когда и удельные издержки растут (в том числе в силу дефицита качественной рабочей силы), и отечественная продукция относительно импортной дорожает независимо от динамики издержек – просто в силу курсового фактора.
Есть ли сектора экономики более успешные с точки зрения индикаторов конкурентоспособности на фоне практически повсеместного укрепления реального курса рубля (RER) в секторах промышленности на уровне 10–20% по отношению к тому же периоду прошлого года? Некоторые подвижки можно видеть лишь в видах деятельности, снижающих удельные трудовые издержки. Из крупных сегментов к таковым, с той или иной натяжкой, можно отнести производство текстиля, резины и пластмасс (то есть нефтехимию) и производителей транспортных средств. У них почти у всех есть внешние «локомотивы» и «буксиры». У нефтехимиков – богатые поставщики нефтегазового сырья, у автопрома – щедрые чиновники, скупающие за бюджетные деньги автохлам у населения по сходной цене.
У остальных секторов такого рода буксиров нет, и их будущая участь незавидна, если только парни из Сколково быстро не придумают что-то такое, что позволит и удельным трудовым издержкам расти, и экономике бумировать, как в свое время происходило в Японии, Германии и других странах, «оседлавших» инновационную волну.